Юбилей Эрнста Загидовича Курмаева
У меня было несколько вех. В 1997 году мне было 60 лет и я попал на синхротрон в Беркли, где стал заниматься рентгеновской спектроскопией с использованием синхротронного излучения. Здесь нужно вмспомнить 1972 год, когда на рентгеновской конференции в Мюнхене выступал проф. Фесслер из Мюнхенского Университета, который еще в то время первым пытался использовать синхротрон DESY в Гамбурге для возбуждения рентгеновских спектров. Качество этих спектров было ужасным из-за слабой интенсивности излучения. И тогда в 1972 году никто даже не ожидал, что рентгеновская спектроскопия с использованием синхротронного излучения получит такое распространение. В 1972 году Фесслер показал первые спектры углерода, снятые на синхротроне в Гамбурге и все покачали головой и сказали, что в этих спектрах ничего интересного нет. Кто же знал, что буквально через 10 лет это будет нечто!
На международных рентгеновских конференциях проф. Чарльз Федли, тоже из Берклиевской национальной лаборатории, всегда приводил статистику, сколько работ сделано с использованием синхротрона, а сколько работ сделано на обычных лабораторных приборах. Было видно, как постепенно увеличивалось это число в пользу использования синхротрона. Ну а сейчас это конечно вне конкуренции. Когда начиналось развитие рентгеновской спектроскопии с использованием синхротронного излучения, на этих источниках не было стационарных установок. Если нужно было провести измерения – вы должны приехать со своей аппаратурой, устанавить ее, настроить, провести измерения, потом забрать эту аппаратуру и уехать. Так вот шведские спектроскописты из Уппсальского Университета специально разработали такой маленький прибор, который можно было загрузить в самолет. Сегодня они полетели в Висконсин, завтра – в Стэндфорт, потом в Брукхэвэн. Специально так сделали, чтобы было удобно перевозить и быстро настраивать. И поэтому шведы в то время вырвались вперед и совершили определенный скачок в этой области. По существу их усилиями и зародилась резонансная рентгеновская спектроскопия.
А первая стационарная линия была построена в 1995 году в Беркли. Туда можно было подавать заявки, и если твой проект прошел, то ехать на измерения. В 1996 году я поехал с докладом на конференцию в Гамбург, где встретился с проф. Дэвидом Эдерером из Тулэйнского Университета, который вместе с проф. Томом Калькоттом как раз в 1995 году сконструировал и установил стационарную пучковую линию для возбуждения рентгеновских спектров на синхротроне в Беркли, и он меня позвал меня поработать на этой установке. А в 1997 году я уже поехал к нему в Новый Орлеан на 6 месяцев. Поскольку Эдерер и Калькотт смонтировали свою аппаратуру, то у них на этом синхротроне был статус PRT – Permanent Research Team. Они имели преимущество – 5-6 раз в год могли ездить на синхротрон без заявок на проведение измерений. Эта группа – выиграла большой грант и получила большие деньги для поездок и проведения измерений.
Это было интересное и счастливое время. У меня была возможность измерять все, что я хотел. Вот можете себе представить, что у вас есть возможность сделать все, что ты хочешь? Если сравнивать с аналогичным лабораторным оборудованием имеющимя тогда в нашей лаборатории (спектрометр типа РСМ-500) , то в нем использовалось электронное возбуждение, и многие материалы просто разрушались в процессе съемки, так как мишень нагревается и образец разрушается. Об органике даже речи нет. А на синхротроне с использованием флуоресцентного излучения можно снимать все, что угодно, даже органику, т.е. все на что тебе хватит воображения.
Я был на конференции американского физического общества в 1998 году, в Индианополисе, и там в первый раз рассказывали об органических проводниках и сверхпроводниках и мы сразу стали исследовать эти новые материалы. В результате нашей совместной работы выяснились наиболее эффективные точки приложения синхротронного излучения. Одна из них - это примеси, спектры которых можно возбуждать селективно, т.е. отдельно от матрицы. В случае нескольких процентов примесей, даже долей процентов, можно возбуждать их рентгеновские спектры и исследовать их локальную электронную структуру. Разбавленными магнитными полупроводниками мы занимаемся до сих пор.
Второе направление – измерение энергетической щели. Мы первыми сделали работу на оксидах переходных металлов и показали, что по спектрам эмиссии и поглощения кислорода может определить щель, и до сих пор мы проводим такие измерения на самых разных объектах. На примере исследования рентгеновских спектров сверхпроводника Sr2RuO4 мы показали, что мы может отдельно определять вклады в электронную структуру от неэквивалентных атомов, от апексного и плоскостного кислорода.
После 6-месячной стажироки в Тулейнском Университете, я стал работать вместе с Алексом Мувесом.
Когда я приехал в Новый Орлеан к проф. Эдереру, Алекс Мувес был в это время у него пост-доком. И он жил не в Новом Орлеане, а в Бэтон Руже (столице Луизианы), где был маленький синхротрон, и он на нем работал. А когда мы ездили 4 раза в Беркли, я работал с аспирантами Эдерера, а Алекс - сам по себе. Когда я уже уезжал и США и даже со всеми попрощался, Алекс сказал мне: «Я хочу с Вами работать». Я говорю – давай попробуем, что из этого выйдет. И уже на следующий год он меня пригласил в Бэтон Руж. Это был 1998 год, там я провел 3 месяца, мы оттуда опять ездили с ним в Беркли несколько раз. И вот так уже 20 лет мы вместе работаем.
В 2012 году, когда мне было 75 лет, УрФУ с моей подачи покупает современный рентгеновский фотоэлектронный спектрометр (они получили большие деньги на оборудование). Так в 75 лет у меня начался другой поворот. Сейчас 90% своего времени я занимаюсь наукой, полученной на этом лабораторном спектрометре. Ситуация здесь совсем другая: когда вы занимаетесь резонансной рентгеновской спектроскопией с использованием синхротронного излучения, там преимущество в отсутствии конкурентов. Число таких мест, где можно померять такие спектры, ну десяток, а это не так много, и многие охотно дают свои материалы для проведения таких измерений. А здесь таких машин (рентгеновских фотоэлектронных спектрпометров) – тысячи. И здесь найти что-то интересное – не так просто. Но тем не менее в 75 лет у меня появилась вторая игрушка. Теперь приходится конкурировать с тысячами исследователей, но есть аппаратура с которой можно конкурировать.
Самое сильное впечатление у меня было, когда я первый раз попал на синхротрон. Представьте себе, что при работе на лабораторных приборах типа РСМ-500, спектр снимается часами. А еще раньше, когда мы работали в жесткой спектроскопии с помощью фоторегистрации, я помню, что я снимал спектр V3Au, и экспозиция была 250 часов. Можете себе представить? Это постоянное дежурство, месяц все снималось и накапливалось. А на синхротроне в Беркли можно было снять спектр за 10 минут. Больше всего меня поразило – сколько всего можно сделать. Смена идет, предположим, 8 часов, и сколько можно измерить спектров! Вот это для экспериментатора абсолютно поразительная вещь. Самое главное при работе на синхротроне – это не только иметь задачу и хорошие образцы, но в процессе таких быстрых измерений делать их корректировку. Это – самое трудное. Потому что ты снимаешь, смену отрабатываешь, приходишь домой, смотришь на результаты: ага, вот здесь нужно повторить измерения, изменив параметры. А самое трудное, когда ты снимаешь первый раз, получаешь что-то новое, и надо сразу оценить правильно или неправильно, и что надо делать дальше. Самое интересное мое достижение было такое, что после того как мы сняли очередную партию образцов, и мои партнеры ставили новые образцы и включали прибор на откачку, и потом делали юстировку, я написал первый вариант статьи.
Между первой и второй диссертацией.
Когда я пришел в лабораторию рентгеновской спектроскопии в ИФМ, здесь уже работали более опытные сотрудники. Первый у нас защитился Трапезников, вторая защитилась Лариса Давыдовна, третий защитился Меньшиков, а четвертый – я. А более опытные Клавдия Михайловна Колобова, Маргарита Федоровна Сорокина, Аркадий Николаевич Гусатинский, они все защитились позднее.
Для защиты докторской диссертации нужно было, чтобы научное рентгеновское сообщество признало тебя достойным этой степени. Сейчас это называется «Экспертная оценка». Тогда у нас в России был патриарх в области рентгеновской спектроскопии проф. Игорь Борисович Боровский, заведующий лабораторией в институте металлургии РАН имени Байкова. Ещё был проф. Роман Львович Баринский, это из Гиредмета, из Москвы, и проф. Владимир Владимирович Немошкаленко из Института металлофизики (Киев). Прежде всего нужно было, чтобы тебя признал Боровский. Я подготовил докторскую диссертацию и поехал к нему докладываться на семинаре. Докладываюсь, и, видимо, я не очень правильную линию поведения выбрал: я стал огрызаться, на глупые вопросы не отвечал, говоря, что эти вопросы неправильные, и так далее. Видимо, не очень хорошо себя вел. А после этого я поехал в Киев к Немошкаленко, где сразу нашел с ним общий язык, и он обещал мне всяческую поддержку. Боровский был одним оппонентом, а Немошкаленко - вторым. Третьего оппонента я взял из УрГУ – это проф. Черепанов, теоретик. А ведущим предприятием у меня был ФИАН, а именно – проф. Мотулевич, это оптик, экспериментатор. Для докторской диссертации тогда нужно было развивать новое научное направление. Мы с Немошкаленко его сформулировали так: развитие рентгеновской эмиссионной спектроскопии в приближении ближнего порядка. Можно было даже кластерными расчетами описать спектры, из-за того, что акт рентгеновской эмиссии локализован в пределах первой координационной сферы.
С учетом этой формулировки я оформил диссертацию и отправил ее Боровскому. Боровский сказал: «Это – не так, это плохо, это надо переделать». Я все поправил, снова ему показываю. Его ответ: «Первый вариант был лучше». Я специально купил в ГДР печатную машинку, она у меня до сих пор есть, маленькая, складная. Там за определенные деньги переделывали немецкие буквы на русские и мне все переделали, естественно. И я на этой машинке диссертацию перепечатывал.
Наступил срок защиты. Обычно, когда оппонент приезжает, он отдает отзыв в совет по защитам. Боровский отзыв не отдает. Я защищаюсь, выступает Сергей Васильевич, хвалит. Боровский тут уже видит, что ветер дует в правильном направлении, подходит к С.В. и начинает с ним обсуждать, как ускорить прохождение и утверждение этой диссертации в ВАКе. Это означает, что у него было два варианта отзыва. Все не так просто было в то время. Более того, в день защиты диссертации с утра он ко мне подходит и говорит: «Покажите мне рентгенограммы». А в чем был фокус. Фокус был вот в чем. В то время электронная структура сплавов, в основном, рассматривалась в приближении жесткой полосы. Это означает, что электронная структура сплава определяется только электронной концентрацией, т.е. залили электроны в гофрированную трубу, и их уровень определяет плотность состояний. А я взял один компонент сплава, это был ванадий, фиксированный, а второй – менял по первому периоду – до меди, по второму периоду до палладя, по третьему периоду до золота. Для сплава ванадия с золотом получилось максимальное расщепление полос порядка 4.5 электрон-вольт. Боровский мне сказал: «Покажите мне рентгенограмму». Он не верил, что в сплавах возможно существование раздельных полос компонентов. А на самом деле это определяется степенью локализации d-состояний. Я вытаскиваю и показываю ему рентгенограмму V3Au. Он говорит: «Снимите мне один слой». В чем фокус состоит. Вот обычный рентгеновский спектрометр (рисует схему). Фокусировка называлась «по Иогану», и спектрографы назывались Иогановскими. И обычно пленка располагалась по кругу Роуланда вот так (показывает на схеме). И тогда на передней стенке плёнки и на второй стенке пленки получалась двойная линия. Поэтому когда снимаешь один слой с рентгенограммы, то на втором слое остается только одна линия. У меня получилось две линии. Я ему говорю, что у меня пленка в приборе не по кругу стояла, а перпендикулярно хорде (показывает на схеме). Все равно, - говорит, - снимите. Жалко было пленку, но я содрал один слой. Две линии остались. Тогда он понял, что здесь нет никакой липы. Вот так вот проходила защита докторской диссертации. Не так просто, как это проходит сейчас. Сколько раз я в Москву мотался, показывал Боровскому исправленные варианты. И в Киев. Сколько раз пришлось перепечатывать на машинке под копирку всю диссертацию, более трехсот страниц! Только недавно я ликвидировал ленты для машинки, которых у меня был большой запас. А машинка до сих пор лежит дома. Такая история с защитой. Когда я защитил диссертацию в 1978 году, мне был 41 год, для экспериментатора это было неплохо, я был самым молодым доктором-экспериментатором в Институте. Всех гостей Института ко мне водили.
Я всегда говорю своим ученикам, что когда я закончил свою кандидатскую диссертацию, в 1969 году (мне тогда было 32 года), я уже точно знал, что я буду делать дальше. Обычно человек защищает кандидатскую диссертацию, и он все еще тесно связан со своим научным руководителем. А я уже точно знал, что я буду делать сам дальше. И Сергей Антонович Немнонов мой руководитель, он это почувствовал, заходил и только интересовался: «А что Вы делаете?» То есть не то, что он мне там что-то предлагал.
А как я писал докторскую диссертацию! Без одобрения, а ведь этого нельзя было делать. У меня был стол с выдвижным ящиком. Я писал. Как только заходит Немнонов, я листок – в стол. То есть я ее писал не с одобрения и не с благословения, а вопреки! Времена сейчас сильно изменились…
Встречи с зарубежными патриархами.
Однажды, когда я был в Швеции, вышла такая история. Есть такая книга, называется «Рентгеновские лучи» (перевод немекой рентгеновской эниклопедии) под редакцией М.А. Блохина, это – как настольная книга для спектроскопистов, и здесь есть глава вторая, «Экспериментальные методы спектроскопии мягких рентгеновских лучей», ее автор – Сандстрем. Книжка была издана в 60-м году. Я ездил в Швецию очень часто, ездил в Уппсалу, и в один из приездов говорю: «У вас работал Сандстрем, где он? А он, говорят, еще живой!» И я нашел человека, который был с ним знаком, и он мне устроил с ним встречу. А Сандстрему было уже 90 лет. Никто не помнил про него. И вот они сводили меня к нему. И хотя ему было 90 лет, тем не менее всю семейную бухгалтерию он вел сам. Жена моложе была, но что касалось расчетов, все делал он сам. Он очень удивился, что такой молодой спектроскопист из России о нем помнит, имеет его книгу, очень был доволен, мы посидели, выпили чай. После этого шведам стало стыдно, что я откопал этого человека, и они стали приглашать его на специальные научные мероприятия. Он был действительно патриарх в мягкой рентгеновской спектроскопии.
А в Мюнхене я был у профессора Виха, это ученик проф. Фесслера, который был директором института физики в Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана. Проф. Фесслер был второй директор после Рентгена. Я провел 3 месяца в этом институте в этом же здании, где работали Рентген и Фесслер. Фесслер такой интеллигент старой школы, уже был на пенсии, но периодически ездил из дома в Мюнхен, и он все время посещал одно и то же кафе, брал чашечку кофе – это был ритуал. Меня один раз позвал с собой. Фактически, из зарубежных патриархов я всех видел. Одиним из таких патриархов был учитель Алекса Мувеса, проф. Кунц. Я был на конференции в Париже, где у меня был доклад, и я его там встретил. Он сказал, что конференция интересная, но ему не очень весело, потому что он не видит своих ровесников.
Первая моя зарубежная поездка была в Лондон в 1968 году на выставку научных приборов и тогда я в полной мере понял, что мой английский никуда не годится. В смысле освоения языка моя следующая поездка в ГДР была очень полезна. Я поехал один и поэтому был вынужден на каком-то языке говорить. Английский накатывал-накатывал-накатывал. В 1972 году я был на рентгеновской конференции в Мюнхене вместе со своим начальником – с С.А. Немноновым и В.В. Немошкаленко – директором института металлофизики. И я за них обоих делал доклады, потому что они совсем не говорили по-английски. В плане освоения языка очень полезной была для меня 6-месячная стажировка в США. Там я записался на месячные курсы в специальном Институте, который назывался «Английский – второй язык» и это мне очень много дало.





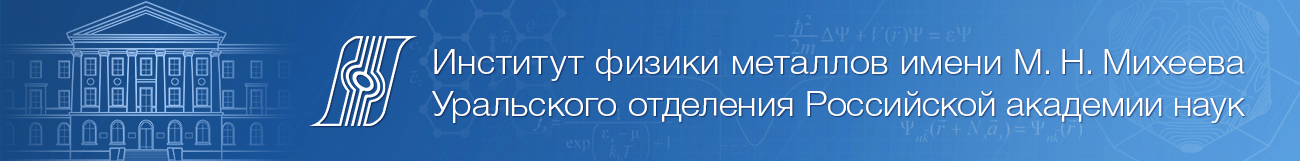
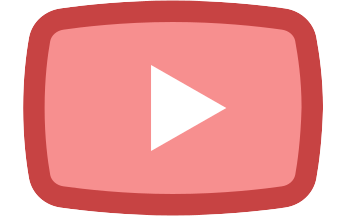
 Телеграм канал
Телеграм канал Группа Вконтакте
Группа Вконтакте